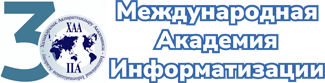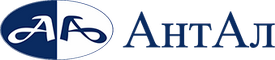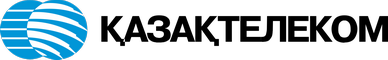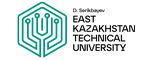Ошибка разума
Ошибка разума
- I. Вступление
Вся доступная нам история прошла под знаком осознания Собственной Невыразимой Исключительности Человека Разумного.
Познавалась ли исключительность в сравнении с Высшим первопричинным существом или же в сопоставлении с бессловесными человекоподобными и неподобными ему тварями, накал постановки вопроса не снижался никогда. Обустроенный или бездомный, страдающий или торжествующий человек всегда (в собственных глазах) был особенным и единственным из всех обитателей Земли, являющим собою Истину в последней инстанции.
Признавая Божественное - сущим, человек ставил себя во главу акта творения и соглашаясь со своей боготварностью назначал себя же целью и премьером созидания. Прочий живой мир Земли, согласно библейской мифологии создавался Творцом для беззаветного служения человеку. Даже сын Божий, принес искупительную смертельную жертву, ради и исключительно спасения, погрязшего в грехе рода людского. В библейской литературе человек всегда позиционировался главным предметом Высших забот и субъектом Высшего предназначения.
Склоняясь к “живоприродности” своего происхождения, Homo ничтоже сумняшеся описывал себя в качестве венца натурного процесса. Даже системное таксономическое наименование подчеркивало исключительность двуногого млекопитающего с мягкой мочкой уха — Разумный.
Наука, в лице самых своих беспристрастных адептов – физиков и математиков, наработала свидетельства о т.н. «особом месте человека в иерархии Вселенной». Данное положение фундирует линейную шкалу базовых физических параметров начиная с фундаментальной длины (Lo=10¯³³) и заканчивая границами нашей Метагалактики. Анализируя размерность этой шкалы физики пришли к выводу о существовании некой симметрии в центре которой, приходящейся на 10¯² – 10¯³ см, (размеры половой клетки человека) расположен, именно, Homo sapiens. Ю.Волков и В.Поликарпов обращаясь к вопросу иерархии мироздания излагают его следующим образом: «... ядра атомов, клеток, звезд, галактик и самой Метагалактики составляют последовательность с интервалом между объектами – 10 порядков. Электроны, атомы, человек, звезды и галактики также выстраиваются в размерную последовательность, причем с тем же интервалом – 10¹°. Сопоставление взаиморасположения и взаимосвязей этих последовательностей наводит на мысль о некоторой периодичности – волне с гребнями и впадинами. Человек находится в центре этих волн, что свидетельствует о его особом месте в иерархической Вселенной»¹.
Общественная и личностная системы ценностей, прописанные человеком и подспудно им же абсолютизированные, антропоцентричны во всех своих параграфах. Принятая в них ценностная прерогатива Homo теснить, ограничивать и уничтожать любых представителей земной флоры и фауны в своих интересах, для него безусловна и оправдана. Безусловна в его биологических нормах и оправдана в его нравственных категориях. Утилитаризм в отношении окружающего живого мира допустим, именно, в силу исключительного положения Человека разумного в биосфере Земли. Мы берем не просто потому, что, способны на это, а в силу того, что, считаем, наши потребности первичными (что даже в формализованных средах человека дискутабельно) по отношению к потребностям креветки, бройлера, лосося или дубовой рощи.
Логичным итогом антропоцентристского типа мышления стала разработка Антропного космологического принципа, в двух его основных версиях - сильной и слабой. И если слабая версия еще допускает первичность Вселенной, в параметрах необходимых для безусловного возникновения Homo в качестве наблюдателя (правда, наблюдателя, допускающего эти параметры!), то сильная – вовсе ставит реальность Вселенной в сакральную зависимость от существования человека. В любом случае постулируется привилегированное положение человека во Вселенной, положение в центре Мира.
Все сказанное недвусмысленно иллюстрирует имманентность самоощущения исключительности Homo sapiens.
Самовосприятие особенным и исключительным, было с человеком всегда, как часть его изначального мироощущения. Свидетельство тому – максимы самооценки впечатанные в историю великими мыслителями. Первым, в этом ряду, бесспорно стоит Протагор: «Человек - есть мера всех вещей», затем следуют Жан-Жак Руссо, утверждавший величественное - «Человек – царь земли, на которой он живет», аксиоматичный Павел Флоренский - «Человек есть сумма Мира, сокращенный конспект его; Мир есть раскрытие Человека, проекция его», неожиданно рассудочный Мопассан - «Все, что есть в мире прекрасного, красивого, идеального, насаждено не Богом, а человеком и умом человеческим». Непримиримый Дидро, с его диалектичным - «Человек есть единственный пункт, от которого должно все исходить и к которому должно все возвращаться» и Горький, экзальтированно воскликнувший: «Самое чудесное, самое высокое создание в мире – это человек» и это лишь единичные примеры в длинном списке порывов отличить самого себя.
Но, чем же человек исключителен?
…............................................................
Ответ нашелся еще у Аристотеля. Также, впрочем, как у Анаксагора и Платона.
Человек разумен – вот основной, фундаментальный, отличительный признак, выделяющий его (по его собственному мнению) раз и навсегда из всей окружающей живой и неживой Вселенной. Даже таксономическая классификация в основание и наименование нашего вида - двуногого млекопитающего с мягкой мочкой уха — поместила обладание разумом. Именно своей «разумности» мы обязаны всеми своими достижениями. Архитектура и технологии, литература и космонавтика, кинематограф и медицина, энергетика, философия, математика, транспорт, живопись, связь - все, чем обладаем мы и чего лишены коровы, муравьи и тапиры, - по нашему суждению, продукт Разума.
В пользу существенности разума говорит и еще один бесспорный аргумент из области личного, и потому не подлежащего опровержению, опыта - мы думаем. В отсутствие, в собственном, нечеловеческом окружении, аналогов поведения и продуктивности наша исключительная способность оперировать аргументами, предположениями и умозаключениями - для нас несомненна.
Итак, причина собственной исключительности, очевидна – разум. Как все бесспорное и очевидное - виртуальная картинка полностью закрывала, существо явления. Не встретив принципиального опора, идея «Разума» укоренилась окончательно.
Однако, и собственно тезис о человеческой исключительности, и мысль о разуме как самостоятельном натурном явлении, дающим основу нашей первородности, видимо, рано считать полностью исчерпанными. Непреходящее ощущение уязвимости и незавершенности этих концептов, обусловило формулирование «Теоремы ошибки разума».
- Теорема ошибки разума
Что же утверждает «Теорема ошибки разума»?
Причина, изложения идеи в форме теоремы, более присущей математическим, чем гуманологическим экзерсисам в следующем. Логика теоремы всегда опирается либо на ранее выведенное доказательство, либо на постулат. В самое же основание общепринятого построения помещено некое безусловное знание, аксиома, не подлежащая опровержению в силу своей очевидности – человек мыслящее существо, ergo - человек разумен. Самоочевидность данного тезиса неоспорима.
Для получения подтверждения достаточно обратиться к собственной субъективной (самой достоверной из всех возможных!) реальности и мгновенно обрести позитивный ответ. Да мыслит, - да разумен.
Доказателен и сравнительный анализ способности к мышлению между человеком и представителями фауны всех типов и классов. Намного рельефнее и эффектней разумность человека проявляется на фоне человекообразных обезьян или гипопотамов.
Далее, познавательно-созидательная деятельность Homo sapiens, не оставляет никакого места для двоякого толкования уже известного факта. Да мыслит, да разумный.
Поэтому мы считаем утверждение о нашей разумности аксиомой и отправной точкой, именно теоремы, как формы логического обобщения, в частности, относительно ошибочности суждения человеческого разума о разуме человеческом.
Отсюда, теорему ошибки разума мы формулировали в следующем виде: Человек не идентифицируется как разумное существо, так как понятие разума - ошибочное.
Уточним, что саму дефиницию "разума" - отражающую человеческую способность к мышлению и познанию окружающего мира, как самостоятельную и самодостаточную категорию мы считаем неприемлемой и в корне неверной. С позиции приведенной нами теоремы — разума, как такового, как самостоятельного явления - вообще не существует, следовательно проявлять себя он не в состоянии ни при каких условиях.
Процесс мышления, обнаруживаемый в способности Homo к познанию и обобщению, анализу и синтезу представлений, суждений и понятий, образованию ассоциативных связей и прочему неразрывно связан в нашем сознании с наличием у человека Разума. Точнее сказать все эти способности, по нашему мнению, сконцентрированы в понятии Разума. Все они и есть собственно Разум. Однако, сегодня категория Разума включает в себя гораздо больше изолированных и уже осмысленных понятий, нежели это допустимо для научного термина.
Познание сути Разума всегда основывались на предположении о самостоятельности и существенности этого явления. Сомнений, в определении Разума самостоятельным явлением, силой способной преобразовывать мир и человека, никогда не было. В предложении – Разум есть способность человека к мышлению, – главной, всегда была первая часть – Разум Есть!
Именно, этим – признанием Разума неким сущим, а не просто синонимом способности мыслить, определялись представления и поиски в отношении интеллектуального измерения человека. Именно, в этом и заключалась ошибка в восприятии «себя мыслящим», «себя рассудочным» и «себя исключительным».
Исправлению этой ошибки и посвящена настоящая статья.
III. Философия об основаниях разума в концепциях человека.
Наиболее заметное обращение философской мысли к поискам первопричин человеческой уникальности, непосредственно связано с очередным периодом одиночества, бездомности и заброшенности человека, наступившим после раскрытия бесконечной Вселенной Галилеем и Коперником. Согласно концепции еврейского религиозного философа Мартина Бубера (M.Buber) раннесредневековая эпоха обустроенности человека, ощущающего окружающий мир надежным и дружественным домом, сменяется эпохой беззащитности, заброшенности в иную устрашающую реальность в которой бездомный и потерявший свое место человек становится для себя проблемой и начинает искать ответ на вечные вопросы своего бытия². В.Губин и Е.Некрасова писали - человек снова «... стал проблемой, распад прежнего образа Вселенной и кризис ее надежности повлекли за собой и новые вопросы беззащитного, бездомного и потому проблематичного для самого себя человека»³.Именно, с этого момента начинается история философских течений, рассматривающих человека в аспекте его упорной рефлексии. С этого момента утратив внятный ответ на вопросы своего появления на Земле, своей сущности, своего пути, цели и исхода Homo начинает искать этот ответ в самом себе.
В начале XX века, нарождающаяся философская антропология предприняла попытку, упорядочения хаотического нагромождения новых и старых концепций о человеке. Один из основоположников философской антропологии Макс Шелер (M.Scheler) предложил классификацию основных концепций человекознания. В статье «Человек и история» он утверждал: «... в пяти основных типах самопонимания человека будут с максимально возможной четкостью обрисованы подобные направления в понимании сущности человека, которые еще доминируют среди нас, в западноевропейском культурном круге»(4)
Среди пяти основных идей о человеке нашли свое место концепции, выделяющие его по признаку обладания разумом. Часть таких концепций была сведена Шелером в одну идею - о Человеке Разумном. Берущая начало в античной философии Аристотеля и Платона идея Homo sapiens определяла разум как специфическое деятельное начало, свойственное только ему, неразложимое на элементарные начала, которые есть у растительных и животных душ. В этих концепциях разум рассматривался как частичная функция Божественного, которой Высшие силы наделили человеческое существо. Положения идеи о Человеке Разумном Шелер свел к следующему:
- человек наделен божественным началом – Разумом;
- который вся природа субъективно не содержит;
- это начало и то, что формирует и образует мир, - онтологически одно и то же, поэтому познание мира истинно;
- это начало в качестве Логоса достаточно сильно и могущественно, что бы претворять в жизнь свои идеальные содержания;
- это начало абсолютно в сравнении со всеми другими качествами человека общими с животными(5).
Все эти положения в той или иной форме актуальны и сегодня, несмотря на появление активной постмодернистской парадигмы, отрицающей бытийность разума вообще.
Следующая идея, сформулированная Шелером и отмеченная им как идея Homo faber (человек творящий) – отказывает человеку в обладании разумом как специфической способностью. Помещение в основу этой идеи положения о духе, как эпифеномене, низводит разум на уровень количественного, степенного девиата влечений присущих животным. Следовательно и сам человек объявляется существом определяемым влечениями, а не разумом. Эта позиция близка идеологии дарвинизма, сенсуализма и позитивизма(6).
Идейные направления основанные на иудаистско-христианской и атеистической антропологии, а так же концепциях о декадансе человека непосредственно тему разума не затрагивают.
Одновременное существование в рамках философской антропологии диаметрально противоположных взглядов на роль разума в укоренении человека в бытии, в его жизненных основаниях не только дает веский повод к пересмотру качества «разума-как-такового». Концептуальная спорность отражает глубинное противоречие самого человека.
Противоречивость человеческого существа, воплощенная в т.н. «проблеме живого человека», позволяет увидеть направление, в котором вопрос о разуме находит свое разрешение.
Будучи центром притяжения самых противоречивых взглядов на самого себя (идеи о разуме – лишь один из множества подобных примеров), человек является собственному взгляду весьма необычным существом. «Все другие сотворенные существа подчиняются определенным законам. Человек один ничем не связан: может делать. что хочет и быть по своему выбору тем, на что решится по своей воле»(7) -, писали Е.Некрасова и В.Губин. Возникший неведомым образом он обладает, в отличие от всех обитателей Земли, неограниченной свободой воли и свободой выбора. В нем нет предопределенности и весь его земной путь не данность, а заданность. Именно так формулируется главный постулат "проблемы живого человека".
В этой проблеме философия наиболее тесно прикоснулась к человеческой сущности, взглянув на нее через призму онтологии. Впервые удалось признать, что родиться и жить человеком - мало. Мало обладать человеческим телом и обликом, мало говорить человеческим языком и уметь читать, конструировать, играть и рисовать. Безумно мало вовремя приходить на работу, аккуратно выполняя обязанности, как бы сложны они не были. Невыносимо мало послушно плыть по течению своей жизни и растворяться в повседневности без остатка. Ничтожно мало всего этого, что бы быть человеком, что бы проявиться, укорениться в бытии. В этой малости и ничтожности человек остается скользящим по гладкой, отталкивающей поверхности жизни и сколь бы он ни вглядывается в бесстрастную зеркальность он не увидит ни себя, ни подлинной глубины бытия. В повседневности и поверхностности человек остается истинно одиноким и никчемным, невостребованным никем, даже самим собой. В этом смысле человек видится бесцельно инертным и постоянно «спящим», то есть не полностью живым.
Идея борьбы с «мертвым» в себе, идея пробуждения «спящего» была актуальна во все времена. Вырваться из омертвляющего плена повседневного, банального, усыпляющего существования, которым охвачено, большинство – единственный мост в жизнь. И только по нему проложен путь к познанию истины, потому что только живой человек способен к пониманию бытия во всей его глубине. Только живой человек постигает высшие истины пониманием.
На этом-то мосту и завязался в ушедшем веке парадоксальный конфликт двух главных поводырей нашего миропостижения – знания и понимания. При всей, кажущейся идентичности этих базовых «инструментов» процесса познания, различие их весьма существенно, а в рамках философско-антропологической концепции человека – принципиально несходно. Знание – по сути, осознанное, сформулированное в словах и знаковых системах, пригодное для передачи сведение, т.е. сведение воспринятое Разумом, проведенное через процедуру мышления. Например, для Владимира Даля знать и разуметь – синонимы. Знание всегда в нашем сознании ассоциировалось с деятельностью Разума и оседало в рукописных и печатных фолиантах, в научных статьях, рефератах, диссертациях и монографиях. Знание существует в словах и книгах.
Понимания в книгах нет. Понимание, вливающееся в человеческую душу минует словесную вязь и зарождаясь в сознании, помогает принять мир непосредственно. Понимание сращивает сущность человека с новым квантом внешней Вселенной, приводя Мир в еще большее равновесие с человеческим существом. Хотя в словаре Даля и статья «Понимать» содержит синоним - «разуметь», но здесь появляется и дополнительное минимально-необходимое толкование – обнять смыслом, находить в чем смысл, толк, видеть причину и последствия. Попытка проникнуть в смысл – сродни умению, восприятию, прочувствованию тайной основы предмета или процесса.
Разрыв знания и понимания проявился, в первую очередь, в связи с накоплением огромного объема фактических знаний, как следствие интенсивной «технологии» научного миропоникновения человека. Оказалось, что можно очень много знать, и совершенно не понимать существа описанных и детально просчитанных явлений. Более того, можно по своим человеческим качествам абсолютно не соответствовать головокружительному уровню открытых и накопленных знаний. Двадцатый век привел массу примеров, и сам стал ярчайшим примером на только бесцельности, но и вредоносности знания, не создавшего в умах и душах людей гармоничной картины понимания бытия, мировосприятия. Распространение массива знаний в среде человечества привело к сужению общей, действительной картины бытия. Парадокс обеднения человека нескончаемым потоком знания и редкими крупицами понимания уносит нас вдаль от бытийного смысла нашего присутствия во Вселенной.
Но бытие содержит в себе тайну человеческой сущности и именно, понимание как равнодействующая знания и бытия, по выражению В.Губина и Е. Некрасовой (8), способно приблизить нас к этой метафизической загадке.
Понимание, так же как знание, имеет свое субъективное выражение. Если для знания - это фиксация в памяти и произвольное воспроизведение сведений, то для понимания - это безальтернативно отличаемое ощущение открытия, ощущение или эмоция принятия в свой внутренний круг факта, знака или чьего-либо движения души, сращения с ним. И может быть, не всегда можно уверенно ответить, – факт стал частью тебя или ты влился в новый бесконечный Мир, но ощущение нового в тебе самом, приближает к смыслу существования, также неотвратимо как движется время.
Знание опирающееся лишь на холодный разум, на расчет, на логические посылки – малая и мертвая часть реального мира. Оживить знание можно, только органично включив его в собственный внутренний мир – пониманием, и здесь мыслительного задела разума недостаточно. В своем стремлении познать истину, понять бытие в целом, человек меняет мир, и пытается войти в полное равновесие с ним. Через испытание, через ощущение-Понимания он пытается стать равным всему миру, меняя себя. Он жаждет отразиться в его зеркале как можно полнее и стать точным отражением бытия, прочувствовать всю Вселенную и понять, ее таким образом.
Резюмируя, можно сказать о безусловной вторичности знания и его операционной основы – мысли, по отношения к пониманию и его операционной основе – ощущению, эмоции. Понимание меняет не только «меня самого», вовлекая новые сферы бытийности в «мою» внутреннюю сферу, расширяя и усложняя ее. Понимание меняет и само бытие добавляя в него «измененного меня». Понимание включает человека в мир оживляя их обоих, - «... понимание становиться составной частью мира, оно добавляется к сложности мира, после моего понимания мир становится другим»(9).
Так же мало, в поле естественнонаучной и философской антропологий, на примат разума, опирается концепция человеческой сущности. Трудовые навыки, владение предметами, изменения климата, способность к членораздельной речи (именно способность, а не сама речь!) по догматам изучающих их направлений привели к возникновению человека на Земле. К этому перечню никогда не адаптировалась идея первичности разума, как источника формирования Homo. Чаще всего констатировалось, что «человеку присуще специфическое начало – разум». Такая постановка вопроса предполагает изначальное существование «уже человека».
При всей кажущейся значимости и первородности, вопрос о разуме фактически предстает вторичным и производным. Бесспорная способность человека к мышлению привязана к понятию «разума», во многом искусственно, силой инерции и необходимостью формализации познавательного процесса. Самая заметная и эффектная сторона психической деятельности человека, его потока сознания - мышление потребовала формального закрепления. Но удачно найденное понятие затмило само явление.
«Земля лежит на трех слонах, а Солнце вращается вокруг нее!»
- Первичность аффективной сферы.
Единство всех видов потока сознания.
Психология, изучающая разум «в действии», разделила общий поток сознания на процессы, состояния и свойства. Затем каждое из этих понятий на индивидуальные и групповые, внутренние и внешние(10). Далее, психология классифицировала проявления личности в среде этих категорий, и как результат - основные ветви высшей нервной деятельности затерялись среди множества второстепенных понятий.
Исходя из эмпирических реалий определим те проявления психики человека, которые мы считаем основными. Это в первую очередь – сферы восприятия и мышления, побудительно - волевая и аффективно-эмоциональная сфера, память, внимание. Подобный выбор продиктован психологией процесса познания, как самого имманентного человеку, наиболее цельного и совокупного по отношению к свойствам нашей психики. Познавательный процесс выстроен как последовательное взаимодействие чувственного и рационального уровней познания(11). Чувственный уровень, в свою очередь - как последовательный ряд восприятия, ощущения и представления, что является прямым следствием взаимодействия субъекта и объекта. Чувственный уровень дает основу для реализации рационального уровня познания, основанного на суждении и умозаключении. Таким образом выстраивается цепочка базовых психических процессов – желание или нежелание контакта с объектом - восприятие объекта и ощущение его свойств – мышление связанное с этими ощущениями – запоминание образов и ощущений – желание или нежелание продлить контакт с объектом.
Повторимся, подобное разделение связано с научной «технологией» миропроникновения человека. Каноны аналитического подхода, тем более, в столь трудно алгоритмизируемых процессах как психические, потребовали ювелирного выделения из общего их потока множества тонких «ручейков». И если «ручейки» получили имена собственные и были протестированы многочисленными, разнообразными методами, то собственно психика, (в целом!) оказалась менее податливым материалом. Но реальность – сам поток, а его «сепарирование» – условность, связанная с аналитическим подходом.
Мы считаем постановку вопроса о существовании единого психического процесса ставшего основой и источником для всех, без исключения проявлений психики допустимой и правомерной. Феномен психической деятельности столь резко выделяющий живых из массива всей прочей природы, является феноменом, именно в силу своей целостности. Трудно представить, единовременное возникновение десятка феноменов на уязвимом комочке протоплазмы,лишь затем, что бы через миллионы лет дать кусок хлеба сонму профессиональных психологов.
Логика требует принятия единого, исходного явления, представшего во многих формах. И место этого явления может занять только одна форма - эмоция или - ощущение.
Все прочие формы потока сознания не в состоянии претендовать на это место по вполне понятной причине – ограниченности их распространения в живом мире. По нашим представлениям животные лишены мышления, растения – воли и способности к целеполаганию, микроорганизмы – всего в т.ч. памяти и органов восприятия. Лишь способность к ощущению, проявляющаяся в самом факте поведения всех живых существ, бесспорно подтверждает наличие у них желания - «вести себя». Ощущения желания.
Здесь будет дано определение, тому новому понятию «ощущения или эмоции», которое мы рассмотрим далее.
Под эмоциями (ощущениями) мы понимаем некое, ярко выраженное интимное переживание, трансформирующееся во в с е виды чувственных проявлений и характеризующееся особой, предельной субъективностью, а также, выдающее суммарную оценку, воспринимаемым внешним, внутренним и эссенциальным сигналам и процессам(12).
Эмоции - единственное сущее явление нашей психики, в то время как мышление, восприятие, стремление, целеположение, внимание или память – есть только различные психические воплощения «эмоциональности». Воплощения принявшие ту или иную воспринимаемую форму в зависимости от физического состояния потока сознания или биологии живого существа.
Исследования в психологии обнаруживают сущностное единство видимых составляющих потока сознания.
Каково соотношение эмоций и стремления или желания? Переживания неких состояний чья суть в эмоционально окрашенных вожделениях будущих событий и предметов, состояний вербально воплощенных в оборотах: «Я хочу... я чувствую, что хочу... я ощущаю в себе потребность... я чувствую необходимость получить...» не могут быть ничем, кроме как ощущениями. Они и есть ощущения приложенные к специфичным активно-деятельностным сферам человека.
Каковы признаки эмоциональной основы памяти?
Память эмоциогенного характера или эмоциональная память является основным пусковым механизмом который включает деятельность тех или иных специализированных нейронов. запускает в действие разные уровни памяти, то есть, по сути, выступает основным её интегрирующим механизмом. В словаре «Человек» Волкова и Поликарпова сказано: «Несмотря на многоуровневый характер (молекулярный, клеточный и т.д.) человеческой памяти, она является интегральным целым».(13) Далее, упоминаются слова Е.А. Громовой, придающей основное значение эмоциональной основе памяти - «эмоциональная память включает не только память о состоянии аффекта, но и о «системе запуска», то есть о ситуации, обусловившей его возникновение».
Известно - гораздо лучше запоминаются эмоционально окрашенные образы, факты, эмоционально значимая информация.
Еще одно качество, подтверждающее эмоциональную основу памяти, – ее образная детерминированность. Человек легче запоминает и воспроизводит по памяти то, что слышал, видел, осязал, если это каким-либо образом связано с уже сформированными гештальтами. Непосредственная и исключительная связь памяти с образом приводит к мысли о чувственной, эмоциональной природе памяти(14).
Восприятие феномен внешне непосредственно не связанный, с эмоциями. Мы видим, слышим, обоняем и эти процессы, субъективно не сопровождается эмоциональными переживаниями. Однако, ряд качеств нашего восприятия – субъективность, суммарность и переживаемость роднит его с эмоциями не меньше, чем память или стремление.
Восприятие обладает выраженной суммарностью, что трудно объяснимо, попытайся мы рассматривать феномен восприятия изолированно. В качестве примера можно привести восприятие человеком света. Чаще всего, восприятие света выступает в форме конгломерата ощущений. Например, восприятие светового луча влечет за собой ощущение большей или меньшей яркости луча. Человек сразу оценивает это. Чувствует. Цветность луча также улавливается сразу. Как и направленность. Луч воспринимается в комплексе, суммарно. Ощущение светового луча, данное в восприятии, переживается во времени и проявляет все свойства эмоций. Ergo, восприятие, – суть эмоции или ощущения.
Так же и феномен синестезии демонстрирует взаимосвязанность восприятия и всех форм потока сознания на основе эмоций. Синестезии - особое состояние сознания при котором «качества ощущенийодного вида переносятся на другой», - как определил их знаменитый психолог А.Р. Лурия (1975).
В норме синестезия встречается в виде «цветного слуха», когда у человека любой звук или слово ассоциируется, а точнее вызывает видение определенного цвета. В патологии при синестетических функциональных и рефлекторных галлюцинациях прикосновение к коже вызывает шум в ушах, яркий свет – горечь во рту, лимонный сок - чувство жжения в руке. Это не вариации форм восприятия, а непосредственное переливание одних ощущений в другие. Одно из наиболее частых проявлений такого типа это синопсия – возникновение зрительных цветовых ощущений при прослушивании музыки.
Взаимосвязь различных видов потока сознания настолько тесная, что он представляется единым целым.
Разновидности высшей нервной деятельности - не просто тесно переплетены, но едины. Самые существенные их черты - переживаемость, суммарность и субъективность роднят их с феноменом ощущения.
- Ощущения и разум. Эмоциональный интеллект.
Разум как высокодифференцированная эмоциональность.
Как же связан разум с аффективно-эмоциональной сферой человека? В каких взаимоотношениях находится он с эмоциями? Превалирует над ощущениями, подчиняется им или производится ими по мере необходимости?
Ни то, ни другое, ни третье.
Мы утверждаем, что, как и восприятие, воля или память, - разум есть лишь особая форма проявления ощущений.
Проявляется, то что мы называем разумом в способности человека к мышлению во всей его полноте, а точнее мышление - есть, - модифицированная по интенсивности и объему, высокодифференцированная эмоция.
Мысль человеческая, столь не похожая на эмоциональное переживание в субъективном своем проявлении, - та же самая эмоция, то же чувство голода, боли, страха, зависти или нежности, но претерпевшая определенного рода изменения. Прежде всего эмоция, утратившая яркость чувственного переживания. Мысль - бесстрастна, холодна, предельно рациональна. Она и есть сама рациональность, в общепринятой классификации.
На первый взгляд. Но разве не мысли переданные словами, буквами, отлитые в стихах и песнях, одах и пасквилях вызывают, опаляющее пламя эмоций в любом из нас? Разве не ледяные, безличные значки математических формул рождены страстным желание разгадать загадку квадратуры круга?
Так почему же мысль не "переживается" всегда при каждом своем появлении и будучи эмоцией предстает перед нами бесстрастной ледышкой рациональности?
Вспомним, что происходит с подлинными эмоциями при их многократном повторении. Чувственная составляющая ощущения постепенно гаснет в круговороте привыкания к ярким переживаниям. Ежедневный ли это пончик с повидлом, многократное прослушивание любимого шлягера, горечь утраты близкого человека или вожделенные удачи на избранном поприще с наградами и премиями - пятый, десятый, двадцатый эпизод будут переживаться менее интенсивно, чем предыдущий.
Повторяющиеся эмоции постепенно редуцируются в главном своем проявлении – субъективном, специфически окрашенном переживании. Мы привыкаем. Никто из нас не помнит, что он испытывал, пытаясь впервые произнести слово «мама». Наблюдая за детьми, видишь, как первые произнесенные слова отражаются на лице ребенка целым каскадом чувств. Задумчивость, сосредоточенность, растерянность… Но многие слова и фразы повторяются ежедневно. Эмоции становятся все слабее в своих проявлениях. И постепенно те эмоции, которые были связанны с конкретными словами и понятиями, перестают быть ярким переживанием(15). Изредка, бывает, что связь эмоций с интеллектом проявляется предельно ярко, и каждое сказанное слово или увиденный предмет звучно отзываются в сознании, влекут за собой целый шлейф ощущений. Эйдетический феномен остается как не закрытая дверь в детство.
Но становясь мыслью ощущение претерпевает испытание не только кратностью. Конкретность мысли, продиктованная императивом использования речи, точнее языка отсекает от ощущения все лишнее, вернее избыточную эмоциональность и только тонкий луч «отшлифованной» эмоции сливается с предназначенным ей словом. Столько сколько вмещает слово.
Так эмоция модифицируется по интенсивности и объему превращаясь в мысль. Дифференцировка эмоциональной сферы начинается с рождения и постепенно формируется устойчивая система отношений высокодифференцированных эмоций, занимающих место того, что мы называем мышлением.
То, что эмоция - основа разума, находит отражение в новейших психологических исследованиях. Пример - разработка EQ – коэффициента эмоционального интеллекта.
Термин «эмоциональный интеллект» возник благодаря исследованиям Питера Саловея, психолога Йельского университета, и Джона Мейера, профессора университета Нью-Гемпшира (Salovey P. & Mayer J.D. The intelligence of emotional intelligence, 1993). ЕQ означает ряд изначально данных любому человеку и впоследствии развиваемых умений. К таким способностям относятся четыре главных составляющих EQ: самосознание (self-awareness), самоконтроль (self-management), эмпатия (empathy) и навыки отношений (relationship skills).
Сама аббревиатура ЕQ впервые была употреблена доктором психологии Дэниелом Гоулманом (Goleman D.) в книге «Эмоциональный потенциал», 1995г. Психологи считают, что высокий ЕQ дает преимущества в сравнении с IQ для успешной адаптации в такой сугубо интеллектуальной сфере как карьера или общественные отношения.
Именно ЕQ во многом определяет успех человека в обучении, в стрессовых и конфликтных ситуациях, в общении, то есть там, где ведущим всегда считается «холодный разум». Психологи отмечали, что если устроиться на работу помогает IQ, то делать отличную карьеру – ЕQ.
Считается, что основой эмоционального интеллекта является, та часть потока сознания, которая ответственна за самооценку своих чувств.
Так постепенно вырисовывается картина, в которой основой мышления становятся эмоции, а само мышление – их производным, полностью от них зависимым.
Один из основателей сенсуализма Дж. Локк(Locke) отразил в своем Высшем принципе: «Nihil est inintellectu, quod non prius fuerit in sensu» - «Нет ничего в интеллекте, чего ранее не было бы в чувстве».
Мы считаем, что в основе возникновения и функционирования разума, а точнее мышления лежит механизм количественной дифференцировки эмоции.
Поток эмоций, поток ощущений меняется, разделяясь на более "тонкие", производные, различительные эмоции. Это, утонченный вариант «грубых» чувств - боли, страха, голода, влечения, жажды и т.д. Каждое из них может воплотиться в более «тонкую» способность различать более слабое внешнее воздействие, отличать одно внешнее явление от другого однородного, однотипного: ноту до от ноты до-диез, синий от светло-синего или голубого, сильный аромат от слабого. Различие заключается лишь в степени точности, в тонкости ощущений(16).
- Заключение.
Идея первичности эмоций по отношению к разуму, воле, памяти и прочим элемента психики человека возникла, разумеется, не вчера. Еще в древности сформировалось теоретико-познавательное направление, названное впоследствии сенсуализмом. Направление, выводящее все познание из чувственных восприятий, изображающее все явления духовной жизни, как более или менее связанные комплексы ощущений.
Первыми сенсуалистами были эпикурейцы и киренаики. В работах Эпикура и Аристиппа из Кирены давалось обоснование познания как процесса, основанного только на восприятиях, причины которых, однако, непознаваемы.
Более позднюю базу сенсуализма заложили Дж. Локк и Этьен Б. де Кондильяк. Дж. Локк, определивший свое отношение к примату эмоциональности уже упоминавшимся афоризмом признавал и некоторую «разборчивость разума» (disposition of the mind). Этьен Бонно де Кондильяк, французский философ XVIII века, сделал попытку «объяснения всех психических процессов, включая память, волю и мышление преобразованиями чувственных восприятий (sensations)».
Несколько более сдержанным сторонником сенсуализма был Юм, связавший понятие «внешнего» и «внутреннего опыта» со способностью человека комбинировать данность с помощью чувств.
Философия не исследует разум как психическую способность человека к мышлению. Большая часть философских трудов, адресованных категории разума, связана с попытками раскрытия смысла и содержания бытия, поисками первопричин развития мира, через интеллектуальное измерение человека. Однако, не только классическая и неклассическая философия, но и современная наука приложили немало усилий для отдаления понятия «разум» от изначального его смысла.
Понятие разума, достаточно давно потеряло четкую идентификацию с мышлением и превратилось, в работах многих мыслителей и исследователей, в нечто большее, чем просто «умение думать словами». В статье «Обновление идеи разума в ноосферных концепциях» В.А.Золотухин писал, что «Уже, начиная с древнегреческой философии, категория « ум — разум — интеллект» понимается и психологически, и как фаза в космическом развитии Вселенной»(17). Здесь, видимо, нужно понимать умножение смыслов вложенных в один и тот же научный термин. В статье В.А. Золотухина приведено множество разительных примеров разрастания понятия «Разум» до галактических размеров.
Начало было положено Анаксагором в его концепции мирового «ума» («нуса»), как движущей силы космогонического процесса. В досократической натурфилософии это была первая техноморфная космологическая модель. Нус Анаксагора - тончайшее и легчайшее вещество, содержащее в себе все знания и обладающее величайшей силой приводит частицы мира в движение и упорядочивает их.
Идеи Анаксагора развил Платон закрепив в своей концепции эйдос в качестве изоморфного целеполагающему началу («демиург и отец вещей»). Платоновское понимание «идеи» (или нынешнего всеобщего Разума) коренным образом повлияло на ставший впоследствии типичным, для европейского менталитета, подход к мировосприятию сквозь призму «идей»(18)
Приведем выдержку из указанной статьи лишь выделив многочисленные варианты содержания концепта «Разум»: «В концепциях Платона и Аристотеля разум (интеллект) выступает как сила определяющая человека. У Плотина ум выступает как организованная и целостная совокупность идей. У Спинозы интеллект (разум) выступает как врожденная природная способность человека к постижению сущности вещей. При этом разум (ум) – это наивысшая познавательная способность, он само бытие, чистое мышление, идеальный космос. Гольбах определяет разум как способность действовать согласно с целью, присущей существу, которому она приписывается»(19).
Философия с самых первых шагов трансформировала понятия «ума – разума» в материал, необходимый ей для обоснования собственной понятийной базы.
В новое время системности и масштаба разум разросся до космических размеров ноосферы утратив непосредственную психологическую окраску. Понятие ноосферы введенное в начале XX в. Э. Леруа, трактуется как «мыслящая» оболочка, формирующаяся человеческим сознанием, как высшая стадия эволюции биосферы. Согласно Вернадскому «в биосфере существует великая геологическая, может быть, космическая сила.... Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного».
Усилиями множества философов и ученых, как-то: А. Бергсон, Тейяр де Шарден, А. И. Субетто, А. Гумбольдт, П. А. Флоренский, А.Бине, Л.Терстоун, Ж.Пиаже, Дж.Гилфорд и других категория Разума заняла центральное место в различных философских, социальных, экологических, космологических и психологических концепциях. И, постепенно, все более мелким и второстепенным, на фоне этих громадных космических трансформаций, становилось изначальное понятие Разума – человеческая способность думать. Но, именно это понятие и требовало своего изначального раскрытия. Перешагнув через, оставшееся недоступным знание человек перенес ущербность своего главного концепта, ставшего «вешалкой для смыслов» на все последующие мировоззренческие принципы. И кто знает, что мы потеряли?
Может быть время.
ЛИТЕРАТУРА
- Ю.Г. Волков, В.С. Поликарпов Энциклопедический словарь Человек М. 1999 стр. 47
- Бубер М. Проблема человека//Бубер М. Я и Ты. М. 1993
- Губин В., Некрасова Е. Философская антропология. М. 2000 стр. 10
- Шелер М. Человек и история // Шелер М. Избранные произведения. М.
- стр. 73
- Шелер М. Человек и история // Шелер М. Избранные произведения. М.
- стр. 75-80
- Шелер М. Человек и история // Шелер М. Избранные произведения. М. 1994. стр. 80-85
- Губин В., Некрасова Е. Философская антропология. М. 2000 стр. 15
- Губин В., Некрасова Е. Философская антропология. М. 2000 стр. 211
- Губин В., Некрасова Е. Философская антропология. М. 2000 стр. 212
- Немов Р.С. Психология. Книга 17 М.2003 стр. 11-12
- Новейший философский словарь. п/ред А.А.Грицанова. Минск 2003
- Мирзаев Е.Т. Гуманология. Алматы 2003 стр. 238
- Ю.Г. Волков, В.С. Поликарпов Энциклопедический словарь
- Человек М. 1999 стр. 351
- Мирзаев Е.Т. Гуманология. Алматы 2003 стр. 239
- Мирзаев Е.Т. Гуманология. Алматы 2003 стр. 242-243
- Мирзаев Е.Т. Гуманология. Алматы 2003 стр. 246
- Золотухин В.А. Обновление идеи разумав ноософерных концепциях. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0203/001a/02030014.htm стр.1
- Новейший философский словарь., п/ред А.А.Грицанова. Минск 2003 стр. 757
- Золотухин В.А. Обновление идеи разума в ноософерных концепциях.
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.