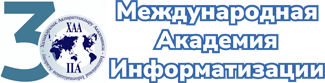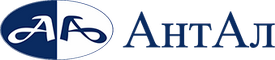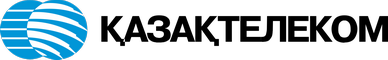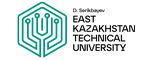Целостный подход и единая наука о человеке – гуманология
30.01.01.30
30.01.01.70
30.01.01.80
- I. Вступление
Многогранный мир является человеку в неисчислимом множестве вещей и событий. Привычное переплетается с уникальным, разум граничит с безумием, и даже живое смыкается на уровне частиц с чем-то не готовым к жизни. Мировой калейдоскоп непрерывно вращается, порождая причудливые картины бытия, таинственные и всегда значимые для осмысленного взгляда. Способность человеческого восприятия вобрать все это многообразие в себя откликается на неисчерпаемость внешнего мира. Также неисчерпаем и наш внутренний мир. Чем глубже дышит скрытое в нас зеркало, тем шире раскрывается перед нами Вселенная. Но тем более, необъяснимым и металогическим на этом фоне видится неугасаемый интерес человека к самому себе. С удивительным постоянством, независимо от времен, обстоятельств и уровня благополучия (а при неблагополучии – в еще большей мере!) одно всегда привлекает человека – он сам. Все познание пронизано, желанием постичь свою суть, свое предназначение и свое истинное место в бытии мира.
Тем парадоксальнее сегодня выглядят многочисленные белые пятна в человекознании. Тысячелетия поиска, и все-таки без ответа остаются вопросы, словно в насмешку названные вечными: Кто мы? Откуда взялись на этой Земле? Каково наше предназначение? Мы разумные? Одни ли мы в этом мире? Куда движемся? Что за пределами земного бытия? И так далее...
Человек задавался подобными вопросами всегда. И одно это заставляет задуматься о существовании некой исходной идеи, изначального порыва нашего бытия. Будто неизвестная нам безусловная истина о человеке, через эту идею, стремится прорваться в наш мир. Будто предназначенность человека пытается войти в нашу жизнь, через эту истину.
- II. Проблемность человека и формирование подходов к человекопостижению
Пытаясь понять свою суть, человек всматривался в себя и то, что ему там виделось, определяло сам метод, точнее подход к самопознанию. Взгляду человеческому в каждый период его истории открывались разные картины. Зависел пейзаж в большей степени от мировоззренческой призмы, через которую велось наблюдение и от самоощущения-в-мире. Но мир неудержимо обретал новые формы и новые признаки. Менялось и его отражение в сознании человеческом. Видимо, поэтому свои подходы к постижению самого себя человек менял неоднократно.
Не претендуя на всеохватность, нашего обзора мы все-таки попытаемся выделить несколько таких взглядов-на-себя, сформировавших впоследствии соответствующие им подходы,и - далее методологию человекознания, зависимую от этих подходов. Очевидно, что отмеченные ниже подходы являлись следствием самых общих философских, религиозных, бытийных взглядов на существо самого человека.
Мировоззренческая подоплека периодов интереса к человеческой сущности нашла отражение в работах религиозного еврейского философа Мартина Бубера (M.Buber). Обозначенные им эпохи бездомности и обустроенности человека - это те временные интервалы, когда Homo становился проблемой для самого себя или соответственно переставал быть таковым¹. Время обустроенности – время пребывания человека во Вселенной, ощущаемой надежным, благополучным жильем. В этот период человек не осознает себя, как проблему и не видит повода для рефлективного исследования собственной сущности и своих онтологичес-ких основ. В эпоху бездомности – утрата опоры во внешнем мире, беззащитность, чувство заброшенности в эту реальность т.е. самоощущение чужеродности порождают ощущение проблемы самого себя и закономерно вызывают вопросы о своем месте во Вселенной, собственной природе, о пути по которому человек, вольно или невольно движется.
В частности, в геометрически правильной иерархии античности человек представлял себя присутствующим в ограниченном пространстве мира. Его место было определено и в достаточной степени благоустроено. Возможно, это и была одна из основных причин, по которым античная философия уделяла большее внимание воде, воздуху и апейрону, нежели самому философу. Внимание знаменитых милетцев – Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена сосредоточилось на поисках архе – единой первосущности мира. Ощущение человека как возможного вместилища этого первоначала или как всеобщего источника мира не состоялось.
Крушение античности освободило арену для мифологии иудаизма, впоследствии полностью воплотившейся в религиозной христианской доктрине. «Когда же христианская религия окрепла и широко распространилась – в странах и душах людей – она построила новый дом, новый христианский космос»², так характеризуют этот период В. Губин и Е. Некрасова. На смену краткому периоду бездомности снова пришло время обустроенности. Появившееся жилище вновь породило чувство укоренености в мире, защищености и человек-как-проблема снова перестал существовать.
Но с открытием гелиоцентрической картины мира, переместившей центр мироздания в бесконечное пространство беспредельной Вселенной, надежный и понятный дом исчез навсегда. Перед человеком – беззащитным и бездомным снова вырисовалась проблема собственной тождественности, защищености и аутоиденти-фикации, а значит и непрерывного поиска себя. Создать новый дом уже не удалось. М. Бубер был уверен, что принятие идеи бесконечности лишает нас надежды на построение нового дома. Окончательно утратив идею дома, человечество становилось все более заброшенным и покинутым, и вновь возникала проблема своих корней, собственной сущности, собственного бытия в этой новой Вселенной. За последние десять тысяч лет истории, писал виднейший представитель философской антропологии ХХ века Макс Шелер, наша эпоха – первая, когда человек стал совершенно проблематичен³.
Особенности данной эпохи вызвали к жизни свои, весьма специфические подходы к постижению проблемы человека, но сам поток интереса к ней становится все шире и уверенней. Вероятно, поэтому количество и разнообразие предлагаемых методологических решений растет, вызывая споры и критику.
III. Антропоцентристский подход
Значимым моментом, сопряженным с идеей М. Бубера является то, что периоды обустроенности или заброшенности порождали характерные для них взгляды на существо самого человека.
Образ человека античных времен порожденный самоощущением полной зависимости всех сфер жизни от сонма олимпийских богов, внимательно надзирающих за земными существами, был раскрыт самому наблюдателю до предела. В этой раскрытости и беспроблемности он не привлекал к себе особого, специфического внимания.
Возникшее и распространившееся затем, одновременно с христианством воззрение на человека как на боготварное существо, также не оставило места какой-либо тайне в нем.
Все возможные загадки homo - происхождение, познание, основополагающие феномены его бытия - любовь, творчество, свобода, смерть, смысл бытия и т.д. были априори объяснены и затвержены, и в дальнейшем раскрытии не нуждались. Не возникало не только специфического научного интереса к «проблеме человека», но и самого этого понятия.
Одна из первых, заметных попыток осмыслить сущность и место человека в общей картине бытия, связана с периодом расцвета Ренессанса (XIV-XVIвв). В эту эпоху противостояние нового жизнеощущения средневековому отрешению от мира слилось в общественном сознании с чувством потери привычных устоев, корней. Именно это чувство и сформировало первые бытийно-гуманистические представления о человеке. Содержание этих взглядов «заключалось в том, что бы быть самодержавным хозяином собственной жизни и верховным властителем мира… Человек осознал себя земным богом…, …уверовал в свою способность и призвание покорять, усовершенствовать, одухотворять мир»4. Но придание человеку божественных черт с необходимостью вело, вновь возникающий образ к аморализму и отрицанию собственных человеческих ценностей. Реформация, завершившая эпоху Возрождения и окончательно сформировавшая в лоне протестантизма гуманизм, усилила этот образ отречением от ложной теократии, освобождением ото лжи и бесчеловечной антропологии католичества. Поиск новой позитивной антропологии привел к утверждению гуманистической доктрины человекознания. Гуманизм утвердился как обоснование либерализма в общественнойпрактике и позитивистских подходов в теоретическом поиске. Однако, прямолинейный позитивизм в попытке понимания Человека подвел самопознание к поверхностному, плоско-рациональному гуманизму. В свою очередь такой подход – обоготворения земного человека, признание его безграничным властителем своей жизни и своей морали – поверг гуманизм в системный внутренний кризис. Суть этого кризиса, по мнению Н. Бердяева, - в двойственности гуманистического освободительного процесса: он заключал в себе великую правду, часть религии богочеловечества и великую ложь религии самообоготворения5. Вероятно, этот кризис и был одной из основных причин того, что позитивистско-гуманистичский подход не создал в XIV-XVII веках продуктивной человековедческой концепции.
Определяемым этапом в формировании подходов к человекознанию можно считатьантропологический поворот в философии в начале XX века, связанный с именем немецкого философа Макса Шелера (Scheler). Предшествовавший возникновению философской антропологии период бездомности и заброшенности человека, непосредственно связанный с успешным продвижением естественнонаучного знания, эволюционными представлениями в биологии и формированием безрелигиозного гуманизма закономерно привел к укоренению позитивистских взглядов на самого homo. В частности дарвинизм, заявивший о возможности существования общих предков у животных и человека, вырвал homo из хитросплетения всё объясняющих библейских историй. Но он ничего не говорил о сущности самого человека, о его предназначении, будущем. Лишив человека опоры, дарвинизм в принципе не мог дать ему нового мировоззрения. С новой силой возникла «проблема человека» - что ж он есть? откуда появился? где окажется после смерти? исчезает ли он в момент смерти навсегда?
Новая ситуация, новый взгляд на таинство человека вызвали рождение антропоцентристского, по сути, подхода, сформировавшего и новое человековедческое направление – философскую антропологию. Это направление в философии представляли Г.Хенгстенберг, О.Больнов, И.Лотц, Х.Плеснер, А.Гелен и др. Однако, признанным основателем философской антропологии считается один из самых значительных философов XX века – Макс Шелер. В своих книгах: «Формализм в этике и материальная этика ценностей» и «Сущность и формы симпатии» он выдвинул мысль о тождественности всех центральных вопросов самой философии вопросу о сущности человека и его метафизическому положению в бытии. Антропоцентристская тенденция новой дисциплины базировалась на исходной самоозабоченности человеческим пребыванием в мире. Человек, согласно Шелеру, есть та реальность, исходя из которой, легче всего постичь характер бытия. Более того, утверждалось, что - «Антропология не является одной из наук в ряду прочих: все обращенные вовне науки укоренены в антропологическом интересе человека к самому себе»6.
В рамках философской антропологии было разработано немало увлекательных идей и взглядов. Однако занять место науки, изучающей человека в его целостности эта антропология так и не смогла.
Что привело нас к такому выводу?
Во-первых, подход философской антропологии – суть подход самой философии. Используя категориальный аппарат философии, ее предшествующие идейные наработки (в частности «Критику чистого разума» Канта) и цели – связывание основной структуры человеческого бытия со всеми специфическими проявлениями человека - полностью лежащие в пределах задач философии, данная антропология ограничила себя в рассмотрении целостного образа homo. Об этом говорит ее собственное заявление о человеке как природно-духовной целостности, выливающееся в понятие плоти тождественное понятию одухотворенного тела. С одной стороны, это заявление с необходимостью вовлекает человекознание в биологические понятийные массивы, идеи и исследования, а с другой - сосредоточившись на рассмотрении трансцендентной души и духа философский взгляд, скользит мимо самого очевидного, что реализованно во всей полноте – мимо тела. Аналитическая антропология вызвала к жизни множество трудноразличимых ипостасей тела – «феноменальное тело», «плоть», «тело как объект», «мое тело», «образ тела», и т.п., но естественно не могла рассматривать «тело как биологический объект» в целостности человека.
Во-вторых, ярким свидетельством того, что философия в целом и философская антропология в частности не в состоянии реализовать целостный взгляд на человека - служат персоналистские идеи Н.Бредяева. Этот тезис становится еще более существенным в свете того мнения, что вся философия, после Ницше, в определенной степени - персоналистична. Антропология Бердяева видит в человеке два «качествования». С одной стороны - он индивидуум, включенный в общественный, по сути контрперсональный процесс, в родовые, культурные, биологические концепции, с другой – он - личность интенционально направленная на мир духовного. Не говоря уже о том, что человеческая природа вообще содержит много «не личного»: родового, исторического, социального, классового, семейного, наследственного, подражательного, т.е. много «общего»7 одного вышеприведенного примера достаточно для понимания разрушительного влияния философии в отношении целостного взгляда на homo sapiens. Монизм, впрочем, как и плюрализм в корне противоречат персоналистической парадигме.
Наконец, немаловажные аргументы доставляет мысль об особом положении философии в сфере познания. В отличие от положительных наук философия как своеобразная отрасль духовной культуры, ищет знание всеобщего в бытии. Конкретные же науки, в том числе и гуманология изучающая, человека-как-такового рассматривают лишь отдельные стороны и проявления бытия в поисках не всеобщего, а общего в этих явлениях Вселенной. Бредяев в своей исключительно интересной работе «О назначении человека» писал: «Трагедия философского познания в том, что, освободившись от сферы бытия более высокой, от религии, от откровения оно попадает в еще более тяжкую зависимость от сферы низшей, от положительной науки, от научного опыта»8. Так же как физика, биология, гуманология и математика не смогут подняться до понимания всеобщего, бытия в его самости, так и философия, даже антропологическая не сможет снизиться до подробного, внятного и результативного научного объяснения естественных явлений Вселенной, какими бы грандиозными они не были. Критикуя попытки философии отвоевать поле исследования у положительных наук в том же «Опыте парадоксальной этики» Н.Бердяев отмечает: «…деградированное положение философского познания соответствует стадии, в которой философия хочет быть наукой и попадает в рабскую зависимость от науки. … Философия наукообразная отрекается от мудрости (Гуссерль) и в этом видит свое завоевание и успех»9. Познание, объективирующее человека, отторгающее его от бытия, а только так можно изучить человека в его целостности, не может быть познанием философским. Бердяев настаивал, что философия есть необъективированное познание, познание духа в себе и через себя. Но объективная биология тела, неразрывно связанная с душой человека не поддается детальному и конструктивному самопознанию без взгляда со стороны, без объективирования, сравнения другого с собой или многими другими. Здесь и становится очевидной необходимость привлечения методологии положительной науки.
- IV. Комплексный подход
Формируясь, как проблема, человек увлекал за собой огромный пласт фактического материала, требовавшего теоретического обобщения и практической реализации. Многогранность и бездонность проблемы человека связывала ее со всеми знаками жизни-существования и жизни-бытия. М. Хайдеггер писал, что поскольку все можно так или иначе отнести к человеку и, соответственно, сделать предметом антропологии, то последняя становится настолько всеобъемлющей, что ее идея теряется в полной неопределенности17. Необъятность антропологии как предмета, закономерно (но недостаточно обосновано, на наш взгляд), была перенесена и на самого человека как объект. Рассеянный, в обширном пространстве человеческого присутствия, взгляд исследователя устойчиво фиксировал лишь объемные, заметные комплексы непознанного. Человек начал видеть себя в формах своего присутствия, исключительно в той или иной обобщенной проблеме. И постепенно сформировалось представление об успешности познания человека, именно, в этих комплексных проблемах, что мы и хотели бы обозначить в своей статье, как комплексный подход.
История формирования комплексного подхода в человекознании прямо связана с развитием общей и социально-культурной антропологии в XX веке. Наряду с другими исследователями выдающийся вклад в становление новой антропологии внес исключительно разносторонний русский этнограф и антрополог Сергей Михайлович Широкогоров. Начав исследовательскую работу в этнографии и этнологии Широкогоров в силу широчайших, энциклопедических взглядов, пошел по пути обобщения и укрупнения разрабатываемых им теорий и концепций. Мы думаем, что именно его неординарная личность способствовала возникновению комплексного подхода в этих научных сферах. В частности, понятие «психоментального комплекса», подробно разработанное ученым служит точным образцом такого подхода. Также, показательна ширкогоровская концепция этнологии – высшего порядка комплексная дисциплина, объединяющая естественнонаучную антропологию, психологию, этнографию, лингвистику. Наконец, его работы позволили говорить о «вновь воссозданной комплексной науке о человеке».18
Успешность комплексного подхода однозначно выявилась в трудах Широкогорова, создавшего универсальные концепции этноса. Однако системные недостатки подхода помешали ему стать ключом к решению особой глобально-специфической проблемы – человеку. К таким недостаткам логично было бы отнести излишне прямолинейную последовательность в воплощении ученым основополагающей идеи цельности сложных образований. Вот как видит эту ошибку исследователь творчества Широкогорова А.Кузнецов: «Подобно многим своим великим современникам и предшественникам С.М. Широкогоров стремился к универсальности научного знания, поэтому его этнология должна была вобрать практически все социальные и гуманитарные дисциплины, включая экономику и правоведение. В этом заключается первое великое противоречие замысла и возможностей его реализации. Сегодня мы хорошо видим «… как вместо стройного ствола единой дисциплины этнологии или чего-нибудь другого разрослось множество изолированных ветвей обширной кроны субдисциплин, слабо информированных друг о друге и почти потерявших связи со своими корнями (курсив мой - Е.М.)»19.
Сегодня, можно с уверенностью сказать, что именно это противоречие осложнило развитие направления человековедения, сделавшего комплексный подход своим основным оружием. Стремление выявить и разработать наиболее значимые и заметные проблемы бытия человека заслоняет главный вопрос – собственно проблему человека наименее заметную из всех. Например, показательно появление в структуре Института человека РАН РФ Центра виртуалистики. При всей бесспорной значительности и сопряженности с человекознанием эта дисциплина имеет все основания считаться самостоятельной и независимой. Новаторский взгляд виртуалистики на человека (в той части, где она соприкасается с homo) не обязывает эту теорию к рассмотрению традиционной «проблемы человека».
Скрытой опасностью данного подхода можно признать то, что комплексные, целевые концепции, обеспечивая углубление в сферу непознанного, ведут к отрыву исследователя от всего массива наработанных знаний. А.Кузнецов анализировал возникающие при этом сложности - «… свои глубокие прорывы С.М. Широкогоров неизбежно должен был совершать, отталкиваясь от общего уровня развития науки своего времени. Отсюда недостатки аргументации ряда положений, отсутствие необходимых данных для более углубленного анализа явлений и т.д.»20. В случае с гуманологией, чей фундаментальный вопрос – человек, подобный стратегический просчет не кажется малозначимым.
Несомненно, и то, что комплексный подход не ведет к созданию единой гуманологической дисциплины, а, следовательно, и единой обоснованной методологии познания человека.
- V. Системно-интегративный подход
Настоящий период проблемности человека совпал с интенсивным развитием науки. Все формы научного познания, в том числе и сопряженные с феноменом человека испытывают подъем подобный вертикальному взлету. Общий успех научного метода усилил самоощущение человека как познаваемого и многогранного феномена Вселенной. Такой взгляд на фоне гигантского избытка фактов и отсутствия целостного понимания сущности человеческого бытия закономерно привел к обоснованию для-себя эффективности системно-интегративного подходав изучении человека. Внешне подобный подход противостоит дифференциации знаний о человеке практикуемой в сегодняшней научной методологии, когда около тридцати самостоятельных дисциплин исследуют и анализируют Homo. Однако, заявленный этим подходом поиск общеметодологических, междисциплинарных оснований изучения человека лишь укрепляет статус разобщенности человекознания. По сути, закрепляется подход, при котором изучение человека, вернее отдельных аспектов его физического, душевного и духовного узурпировано многими отраслевыми дисциплинами. При этом так же остается разобщенным и видение человека. Последний исчезает как целостный феномен и становится пестрым набором общих, немаловажных, но все-таки второстепенных деталей.
Тем не менее, поиски единого, продуктивного подхода к постижению человека все-таки прорисовываются на пестром фоне дифференциации наук о Homo sapiens. Этот, последний, закономерный процесс, связанный с накоплением положительными науками огромного массива знаний ведет в то же время к фактическому регрессу понимания и целостного восприятия человека как единого бытийного феномена. Этот распад не компенсирует углубленное и подробное раскрытие какого-либо одного аспекта человеческого существа, т.к. тщательно изученный этот аспект теряет смысл вне контекста целостного явления человека. В статье «Принцип системности в изучении человека» О. Коронцевич справедливо отмечал, что «…общий объем достаточно надежных сведений накопленных в разных науках … не так уж мал. Но собрать из них целостную, логическую, когерентную картину пока не удается. Она получается мозаичной, несбалансированной, с массой диспропорций и «белых пятен»eƙ¹⁵.
Нелишним будет отметить физическую невозможность подлинной интеграции системных исследований в единое, целевое исследовательское пространство. Непомерный объём фактической информации собранной различными человековедческими дисциплинами, трудно стыкующимися между собой, не имеющими единого понятийного аппарата, не позволяет привести эти знания в согласованную систему. Такое положение дел неумолимо ведет к отсутствию целостного понимания и проблемы человека, и самого человека. Наиболее точно это отразил в статье «Единая наука о человеке: иллюзия или реальность» С.Цоколов. Он писал: «В настоящий момент весь объем знаний, накопленных человеческой цивилизацией (культурой), «размазан» по библиотекам, институтам, университетам, компьютерам и вряд ли в ближайшее время может быть сконцентрирован в одной аналитической единице, тем более в такой, которая должна представлять собой не единую науку, один институт или группу ученых, а исключительно мозг одного человека»²². Таким образом, вызывает сомнения способность системного подхода приблизить нас к новому уровню человекознания.
Такой результат разобщенного изучения Homo sapiens не удивителен. Факт, при всей его самостоятельности и объективности - есть дитя трактовки. Факт трактуем. Будучи связан со всем массивом концептов определенной области знания, факт приобретает, если хотите цвет, вкус и запах, той науки, которая его обнаружила и взрастила. Факт настолько тесно впаян, настолько системно интегрирован в окончательную картину «своей» науки, что для полноценного рассмотрения его в другом поле необходимо полное переосмысление не только принадлежащих ему дефиниций, но и его истории, способа функционирования, его отношений с прочими понятиями системы. Невыполнение этих условий препятствует системному включению гетерогенных фактов во вновь создаваемую целостную картину.
Есть и еще одно соображение, связанное с недостаточностью системного подхода в человекознании. Данный подход находится вне пределов какого-либо исторически сложившегося взгляда на человеческое существо, он появляется post factum и, следовательно, не порождает собственного «тезауруса», собственной проблематики человекознания. Он лишь систематизирует, приводит в порядок в соответствии с произвольно выбранным принципом определенный набор фактов. Разумеется, впоследствии система через анализ закономерностей приведет к постановке новых вопросов, но будут ли это те вопросы, ради объяснения которых использовался сам подход – неизвестно. То есть, имеются все основания сомневаться, что системный подход направит гуманологию к поиску основополагающих ответов о самости человека и его бытийности. Во всяком случае «синтетическая картина человека» ни таких ответов, ни таких вопросов не предполагает.
Наконец, хотелось бы заметить, что системный подход подразумевает предельную объективацию человека в познании. Человек сознательно, системно превращается в схему. Но утвержденная философской антропологией невыразимость человека, как одна из фундаментальных его характеристик отрицает возможность такой объективации. «Человека нельзя изучать объективно, как некий внешний предмет, - пишут Некрасова и Губин. Изучить, познать что-либо объективно можно, лишь развернув его в пространстве, вывернув его на изнанку. Понятно, что с человеком проделать этого нельзя»¹⁶. С этим трудно не согласиться.
Системно-интегративный подход не способствует концентрации познавательных усилий на основном бытийном и сущностном аспекте человекознания. Но, даже направив мысль к ряду вопросов, обойденных прочими науками о человеке, этот подход вряд ли предложит эффективные методы решения базовых проблем гуманологии. Разумеется, он не порождает и человековедения как самостоятельной дисциплины.
Естественно, системный подход несет и положительные посылки. В первую очередь они связаны, со стремлением сформулировать единый язык метапонятий о человеке²³. Для интенсивного прогресса человекознания необходимо единое понятийное пространство. Общий язык для ученых рассматривающих человека – залог внятного диалога между ними. Того диалога, на который сейчас рассчитывать не приходится и который может быть в перспективе продуктивен.
В целом же системный подход, как вспомогательный метод, бесспорно полезен любой научной дисциплине и гуманология здесь не исключение.
- VI. Постгуманистический подход
«Проблема человека» в последние десятилетия совершила новый поворот. Разумеется, и он не был случаен и стал результатом нового перманентно нарастающего конфликта между Homosapiens и второй искусственной средой им порожденной. Этот конфликт повлек развитие особенного взгляда на человека. Человек стал мыслиться только и исключительно включенным в социум, в цивилизацию. В действительности же, будучи глубоко интегрированным, в саму структуру производства и потребления он не просто адаптировался к социальному способу существования. Он пошел гораздо дальше – возникла непосредственная аутоидентификация индивидуума с обществом – мимесис. Явные и шумные успехи технической цивилизации в пределах социогенной «потребностной», ценностной шкалы (в достаточной мере условной) обозначили любые усилия Homo sapiens как недостаточные. Человек, вырванный из контекста социального, казался обнаженным, беззащитным и беспомощным. Наиболее заметные человеческие успехи, однозначно связывались в общественном мнении с дальнейшим развитием всего железного, бетонного и электрохимического. Перспективы человека-как-такового, человека вне целей и успехов общества исчезали, подобное развитие постулировалось как тупиковое. Итогом линейного проецирования настоящего в перспективу стало принятие догмы примата общественных форм развития над индивидуальными. Все порожденные обществом формы и фигуры ментальной активности, внешне самостоятельные стали казаться более жизнеспособными и перспективными, чем сам человек. Бесперспективность собственно человека, совпавшая по времени с идеями Ницше о смерти Бога и как следствие этого неминуемой смерти Человека, привела к зарождению нового подхода.
Обозначим его как постгуманистический подход в гуманологии.
Начало этому подходу в философии XX века положили работы французского мыслителя Мишеля Фуко (Foucault) и его постструктуралистская идея «конца человеческого». Постструктурализм способствовал образованию трансгуманистичского движения, нацеленного на возникновение т.н. сингулярности, предполагающей смену авангарда носителей разума в эпоху современности. Люди, постепенно уступающие позиции кибернетическим механизмам и искусственным организмам вскоре должны будут сойти со сцены, на которой разворачивается эволюционное действо. В работах К.Хейлис, М.Эпштейна намечены закономерности надвигающегося катаклизма.
Гуманология инициированная трансгуманизмом представлена как «наука о трансформациях человека и человеческого в процессе создания искусственных форм жизни и разума»¹º (курсив мой – Е.М.). Исключительность человека, изначально служившая стимулом к самопознанию, требовавшая объяснения его феномена с одной стороны, с другой - препятствовала эффективной сравнительной аналитике человековедения. Главный дифференциальный признак человека – разумность, оказавшийся в единственном числе не позволял развернуть сравнительный ряд «человекоподобного» в силу прямого отсутствия аналогов. Постгуманистическая гуманология снимает эту проблему – она «… рассматривает человека в ряду не только внеразумных форм жизни, но и внебиологических форм разума(выделено - М.Эпштейном), - как элемент некоей более общей парадигмы, как «одного из»: в ряду животных, гуманоидов, киборгов (киберорганизмов), роботов. …У феномена человека появляется как бы грамматическая форма, «падеж» со своим определенным значением, тогда как раньше он был внесистемным феноменом, единственным субъектом и объектом гуманитарных наук. Теперь мы начинаем рассматривать человека как одну из фигур ноосферы, и он получает дополнительные дифференциальные признаки»¹¹ (выделено – М.Эпштейном). Новый гуманологический подход привнес в человековедческую проблематику необычные взаимоотношения между основными отраслями, изучающими человека. Гуманитарные наукипродолжают рассматривать человека как самостоятельного творца идей, образов, форм внешнего и ментального пространства. Естественнонаучная антропология видит человека в качестве результативной эволюционной, биологической формы царства животных. Дифференциальной особенностью этой живой формы становится переход биологической эволюции в культурную. Наконец, собственно гуманология обозначает в качестве предмета – человека, как элемент техносферы. М.Эпштейн пишет, - «Человек предстает как создатель не просто культурной среды, а самодействующих форм разума, в ряд которых он сам становится – создатель среди своих созданий. Если антропология изучает специфические признаки человека среди других живых существ…, то гуманология изучает его специфические признаки среди мыслящих существ, умных машин (муже- и женоподобных – гуманоидов, андроидов, гиноидов)»¹².
Несомненные преимущества постгуманистического подхода в гуманологии – рельефность дифференциального метода, осознание форм конечности человеческого и пределов реальности самого человека, сопровождаются несомненными же недостатками.
Во-первых, очевидна кратковременность нашего опыта постгуманистической, технотронной эпохи. Последние сто лет интенсивного технического скачка, действительно принесли свидетельства, заставляющие задуматься относительно низкой парциальнойконкурентности вида Homo sapiens существующего рядом с роботами и компьютерами. Но тысячелетия истории человека продемонстрировали его недюжинную способность к сохранению своего лидирующего положения в ноосфере. Было бы ошибкой считать, что этому положению до сих пор никто не угрожал. Если мы обратимся к истории человека в аспекте виртуалистики, то увидим, что виртуальная реальность тотемизма, мифологии и религии, обладающих собственной логикой, т. е. автономностью (в виртуальной реальности свое время, пространство и законы существования) не раз могла возобладать над человеческим «сознанием себя». Ведь в виртуалистике считается, что порожденное обладает таким же статусом реальности и истинности, как и порождающее. Однако преодолеть устремленность человека его концептам не удалось, и идеи «высшего разума» отступали одна за другой. Вероятно, этому способствовало одно из свойств виртуальной реальности – порожденность т.е. продуцируемость виртуального активностью какой-либо другой реальности, внешней по отношению к ней. Фактически это свойство утверждает зависимость виртуальности от константности, т.е. определенную степень неравноправия. Так же и искусственный разум трансгуманизма, будучи зависимым, от людей, видимо, не сможет обрести тотальной конкурентности и выйти «на передний край эволюции разума». К тому же наш опыт наблюдения за техническим прогрессом, как уже сказано, недостаточен для уверенных выводов. Например, о кенозисе человека в технологиях – самоистощении его в собственных искусственных творениях.
Во-вторых, размышления о возможности смены авангарда интеллектуально-технологического развития на планете и об отступлении человека перед цивилизационными претензиями его собственных созданий неминуемо приводят нас к проблеме Творца и его творения. Христианская антропология, воссоздающая взаимоотношения человека-творения и Бога-Творца сталкивает их в сюжете грехопадения. Чаще всего падение человека толкуется как начало и причина расщепления его существа на иррациональную и стихийную составляющие. Но в природе человека изначально подразумевался дуализм порожденный Божьим творением и тварным ничто т.е. несотворенностью. Первое предполагает достаточно жесткую зависимость человека от Творца и Божьей идеи, а второе – возможность свободы. Такова исходная двойственность человеческой природы, обусловившая возможность грехопадения как волевого свободного акта. Но грехопадение как полагает Н.Бердяев «… не может быть объяснено в категориях Творца и твари, оно не возможно как восстание твари против Творца. Тварь не может отпасть от Творца, не может найти силы для этого и не может породить самой мысли об этом»¹³. В более общем контексте эта мысль трактуется как невозможность трансценденции продукта,невозможность преодоления созданием собственного творца в силу изначальной наделенностисамого создания. В христианской мифологии Бог создал человека из праха, из бездны меона и в нем присутствует несотворенное начало. Именно это начало дало творению свободу и сделало возможным грехопадение. В продуктивной, трансгуманистической цивилизации создания человека наделены только и исключительно человеческим, (точнее той его долей, которую homoсмог им передать). Материал же использованный человеком-демиургом не определяет сущности созданной им цивилизации. Представляется невозможным преодоление андроидами, гиноидами и искусственными организмами того единственно человеческого, что в них заложено. Это ведет к невозможности отпадения рукотворных созданий от своего творца-человека. Для этого им пришлось бы стать чем-то большим, чем сам человек. Но наделить их этим большим человек не в состоянии, как не смог этого сделать с самим собой.
К. Ясперс убеждал, что человек есть подлинная форма жизни, и другая жизнь не превзойдет ее, так как более совершенное и универсальное не в состоянии произойти от более примитивного¹⁴. С чем трудно не согласиться.
VII. Целостный подход
Период проблемности человека открытый двадцатым веком – уникален. Если идея гелиоцентризма Коперника лишила людей «ощущения дома», то технический прогресс прошедшего века и сопряженный с ним процесс глобализации, «открытый мир», «открытое общество» наглядно продемонстрировали человеку окончательную невозможность обретения надежного жилища. Точнее сказать такого жилища, которое человек всегда себе подсознательно представлял – дом-пещера. Такой дом должен быть безопасным, теплым, уютным, закрытым со всех сторон, защищать от внезапного нападения ночью и сберегать добытое днем, когда жилец на охоте. Не важно, выступает в качестве такой пещеры - квартира, вилла, крепость, страна или союз цивилизованных государств. Признаки пещеры - теплой и безопасной – должны были нести все эти понятия, без исключения.
Двадцатый век в катаклизмах переустройства планеты и глобализации оставшегося, показал недостижимость такого дома. Эти реалии, как и перспектива апокалипсиса, витающего над человечеством, заставили нас вновь обратиться к истокам своего существа.
Однако, новый взгляд человека на самого себя, возникший в этот период отличался стремлением к абсолютному и окончательному пониманию себя, которое только и могла породить окончательная заброшенность и безысходность. В сознании человека двадцатого столетия сформировалось представление об окружающем мире как о чем-то противостоящем ему. Не обязательно враждебном или фатальном, но – всегда обособленном. Испытав отторжение мира, явно не готового принять инновации и опыты человека над собой, отторжение созданной им же второй природы человек, наконец, ощутил свою посюсторонность по отношению к окружающему миру.
Вместе с пониманием окончательной собственной ответственности за себя, с этим ощущением возникло и восприятие себя изолированным, целостным явлением. Человек и мир разделились на Я и не-Я. Этот взгляд на себя и породил гуманологическую концепцию человекознания, в которой Человек рассматривается как единое, целостное явление. Явление целостное не только в сиюминутной, сегодняшней совокупности, но и во временной протяженности и в единстве проявлений.
Концепция нашла воплощение в целостном подходе и в той гуманологии, которую мы здесь представляем.
Как мы уже писали, выше подход к развитию гуманологии определяется взглядом человека на самого себя. Разработанная нами концепция фокусирует внимание на понятии человека-явления, человека-как-такового, названного в гуманологии Homo sortitus – человек предназначенный. В своей работе мы утверждаем следующее: «Именно человек-как-таковой единственно в состоянии соответствовать требованиям наших поисков, потому что его рассмотрение непосредственно ведет к вопросу о сущности, точнее о феномене постижение которого даст нам ответ на один из главных метафизических вопросов нашего бытия – «что есть человек?»²4.
Главная особенность понятия Homo sortitus – в том, что оно отражает не признаки присущие биологическому виду в целом (как Homo sapiens), а знаки свойственные сущности человека. Если мы говорим, что представитель вида обладает разумом, то только обращение к понятию Homo sortitus открывает нам бытие этого явления, как явления сущностного. За дефиницией человек-как-представитель-вида, стоит многоаспектность его институциональности и всех проявлений. В частности, заявление, что «человек – биопсихосоциальное существо», относится, несомненно, к этому понятию. Человек же, как Homo sortitus - понятие первичное и неразложимое на составные части, как первичен сам феномен.
Целостный подход с необходимостью влечет возникновение, единой, специализированной области знания о человека, которую мы назвали гуманологией. С нашей точки зрения гуманология, исследовав человека-явление, предоставит в наше распоряжение представление о ценности его совершенствования. Сформулированная как «наука о цели и путях управляемой эволюции человека, ведущей к более совершенным его формам»,²⁵ гуманология может стать основным интеллектуальным инструментом реализации человеческого во внешнем мире.
Познание человека в его самости даст людям не только понимание причин противоречивости и невыносимости социальной формы его бытия. Социальность Homo sortitus, рассматриваемая нами в качестве неотъемлемого этапа его эволюции, с очевидностью, демонстрирует бесперспективность человеческого общества. Исследование причин кризисного характера развития человека-явления, несомненно, откроет нам видение альтернативнойперспективы. Гуманология - как наука, способная ответить на главные вопросы, связанные с человеком, бесспорно, предоставит в распоряжение homo способы наилучшей адаптации к этому миру.
Разумеется, проблема заключена не только в оптимальном приспособлении к миру, в котором мы пребываем. Более существенно – полное выражение человеческого в пределах отведенного нам бытия и связанного с этим ощущения полноты жизни и мира. Приближение к пределам человеческого, безусловно, единственный путь совершенствования, как трансценденции нашей сущности. Именно такую задачу способен решить целостный, гуманологический подход к познанию человека.
Целостный подход, в конечном счете, оказывается единственно приемлемым для разрешения проблемы дома обозначенной М.Бубером. Непосредственно сопрягая проблему человека с идеей его совершенствования, гуманология демонстрирует возможность обретения человеком себя и своего места в бесконечной, и казалось бы навсегда утраченной Вселенной. Совершенствование, расширив возможности человека, и придав его самоощущению-в-мире большую уверенность, позволит соотнести масштабы притязаний Homo futurus с масштабами Вселенной, которая станет новым бесконечно уютным и приветливым домом.
Рассмотрение человека как объекта-субъекта, (то есть как «коллегиума»²6), подводит нас к мысли о выделении целостного изучения человека из сферы философской дисциплины. Таким же образом, каким изначально науки обособились от массива античной философии сегодня, видимо, подошла очередь знаниям о человеке отделиться от идей философии и философской антропологии и занять собственное место в ряду человеческих ценностей. Знаменитый американский философ-психолог Уильям Джеймс писал: «… сами положительные науки образуют ветви от древа философии. Как только человечество достигло точных ответов на известные вопросы, эти ответы стали называться «научными», и то, что мы зовем философией, есть лишь остаток от поставленных вопросов, - вопросов на которые ещё не имеется ответов»²⁷.
Заявленный нами целостный подход в человекознании, безусловно, ожидает своих приверженцев и внимательных разработчиков.
VIII.Институт человека
Целостный подход подразумевает систематическую разработку в рамках человековедческой дисциплины, что подводит нас к давнишнему вопросу о функционировании Института человека. Более полно этот вопрос освещен в нашей книге «Гуманология»²¹.
Сейчас, видимо, трудно установить, кто и когда впервые высказал предположение облечь познание нас самих в некую организационную форму.
Эти попытки можно обнаружить, например, в советской прессе 30-х годов. Говорил об этом А. М. Горький, посвятивший много лет исследованию человеческой личности. Он утверждал, что «грядущая эра – коммунизм – это эра человека и единой науки о нем». В 1931 году, после совещания в Москве с участием ряда специалистов здравоохранения было принято решение об организации института экспериментальной медицины. Созданный по инициативе А.Горького институт вскоре приобрел медико-биологическую ориентацию и в 1944 году послужил базой для организации Академии медицинских наук СССР. Институт человека и человековедение так и не получили развития.
В 1990 году при АН СССР был сформирован Научный Совет по комплексному изучению проблем человека под руководством академика И.Т.Фролова. Организаторы Совета считали, что понять «единство специальных законов развития человека, открываемых разными науками можно продвигаясь по пути организации комплексных исследований проблем человека, то есть, реализуя проблемный подход». Поэтому одну из своих первоочередных задач Совет видел в определении круга наиболее важных проблем, которые не могут быть решены силами одной науки, а требуют объединения представителей областей знаний в совещательный орган. В конечном счете, в 1992 году Институт человека был организован при РАН РФ и в его ведении был широкий спектр человековедческих проблем. К сожалению, сегодня Институт человека РАН РФ ликвидирован решением Ученого Совета академии.
Дань этой теме отдали и газеты. Обосновывая открытие дискуссии «Нужен ли институт человека?», 13 сентября 1967 года «Литературная газета» писала: «Института человека нет еще ни в одной из стран земного шара. Есть Музей человека в Париже, есть крупные институты и лаборатории антропологии в Советском Союзе, в странах Европы, в Америке. Но института, который ставил бы себе целью создание науки о человеке, нет»²².
На первом заседании «круглого стола» в редакции собрались и отвечали на поставленные вопросы антрополог, писатель, философ, психолог. Когда раздел «Институт человека» стал постоянным, газета предоставляла свои страницы другим специалистам, изучающим данную проблему.
«Институт человека мог бы быть необычайной организацией по своей структуре и функционированию, неформально объединять специалистов для выполнения комплексных проектов и программ, а также вести просветительскую деятельность через своеобразный Музей человека, в котором средствами науки и искусства выражались бы многие стороны жизни человека разумного и гуманного», - писал академик И.Т.Фролов.
Но в сфере науки как таковой, готовой принять в свое лоно самые свободные дефиниции, человек по-прежнему остается белым пятном. Кроме классически пародийного - «двуногое без перьев…» ничем, достойным обозрения, человекознание не располагает. Гигантская библиотека увлекательных подробностей, да анатомический музей с располосованными до эргастоплазмы препаратами не вносят ясности в суть дела. Главные признаки Homo sapiens - разум, общественный характер деятельности, феноменальность и прочее, также не имеют общепризнанных терминологических эквивалентов, что в свою очередь не позволяет использовать их в качестве отправных точек для понимания сущности человека.
Должна появиться предметная, специализированная дисциплина.
Институт человека должен специализироваться на исследовании перспектив развития и совершенствования человека, а также сосредоточиться на вопросах сущности человеческого феномена.
Состав исследователей может быть представлен специалистами в области анатомии, физиологии, медицины, эволюционной теории, бионики, психологии, философии, социологии. Кибернетики и физики- теоретики, также внесут вклад в изучение и совершенствование человека.
При Институте человека может функционировать учебный центр, где переработанные в учебную программу основы гуманологии будут преподаваться тем, кто заинтересовался данной проблематикой.
Вопрос об организации Института человека по-прежнему остается открытым.
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.